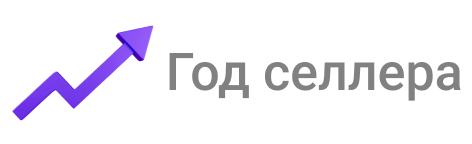«С врачами всё просто: или ты лечишь людей, или живёшь с ведьмой. Одновременное выполнение этих задач — клинически недоказуемо.»
Когда я спросил, где мне теперь жить, Архибальд захлопнул журнал учёта душ с такой выразительной вежливостью, что от стен отслоилось штукатурное проклятие.
— Вам выделена казённая изба. Два входа, два хозяина. Всё честно.
— Ведьма. Пожилая. Умеренно недоброжелательная. На учёте с XIII века. Не жалуйтесь — прошлый целитель жил с гончей преисподней. Без окон.
Я уже должен был насторожиться, но был слишком уставшим, слишком наивным и всё ещё с остатками пирога в животе, что делало меня необоснованно смелым.
Изба стояла на отшибе, на курьих ножках, которые старались не шевелиться при посторонних. Дверь с моей стороны была немного менее проклята, чем с её. Это чувствовалось по скрипу: мой — как больной позвоночник, её — как предсмертный вопль дерева, у которого срубили душу, но забыли тело.
Я вошёл, поставил сумку и попытался устроиться. В избе было всё: печь, кровать, стол и атмосфера, подходящая для медленной потери рассудка.
Я только начал распаковываться, как в стене зашуршало.
— Слышишь, целитель, — раздалось из-за перегородки. — Не топай, как мамонт в брачный период. Пол просил пощады.
— А вы кто? — спросил я, хотя уже догадывался.
— Твоя соседка. Ведьма. Аграфена. Без «тётя». Без «баба». Без «ты же ведьма, почитай судьбу».
— Приятно познакомиться, — соврал я.
С первого дня началась война.
Она заваривала какие-то травы — и у меня начинались зрачковые галлюцинации. Я видел, как чайник сначала улыбнулся, а потом признался в любви половнику.
Я варил куриный бульон — она вопила, что запах напоминает ей бывшего мужа. Которого она, кстати, вскипятила. Случайно. Возможно.
На холодильнике (он был зачарован и время от времени стонал) появилась записка:
«Ты громко дышишь. Прекрати. Я не подписывалась на дыхающих соседей.»
«Сожалею, что живой. Постараюсь исправиться. Возможно, неудачно».
Я попытался наладить быт. Или хотя бы не умереть в нём.
Прачечная у нас была общая — таз, зелье для отстирывания неудач, и ворчливая верёвка, которая шептала обидные вещи про крой моих рубах. Я однажды повесил туда халат — через час он исчез. Вместе с носками. Аграфена утверждала, что это «пятновыводная утечка». Я подозреваю — ритуальное изъятие в пользу её гардероба.
— Видел мой халат? — спросил я утром.
— Видела, — кивнула она. — Он сам ушёл. Слишком много стыда в ткани. Такие вещи обречены на бегство.
Разделение продуктов мы тоже устанавливали экспериментально. Я сложил свою еду на левую полку, подписал: «Моё. Не трогать. Даже взглядом.» Через день там лежали сушёные когти, неизвестная пастила и записка:
«Голодная ведьма — общественная опасность. Спасибо за вклад в безопасность деревни.»
Я написал ответ. Дипломатичный. Всего из одного слова. Она его зачаровала, и теперь оно крутилось по кухне и материлось на всех языках.
Позже я попробовал установить границы с помощью верёвочки — повесил её посередине кухни. Утром обнаружил, что она теперь змейка.
— Она на пенсии, — пояснила Аграфена. — Считает себя психологическим барьером. Не мешай ей жить.
Мы поссорились из-за холодильника. Я хотел сложить туда бинты и лечебную сыворотку. Она — настойку из жабьей икры и чьё-то левое чувство вины, в пузырьке. С компромиссом не сложилось: холодильник обиделся, ушёл в подпол и теперь вылезает только по праздникам.
Кошмар наступил, когда мы оба решили готовить. Одновременно. Я варил перловку. Она — чёрное мыло из волос и тайных мыслей.
— Убери свою кашу, она мешает моей душе развариться, — бурчала она.
— Твоя душа пахнет гарью.
Печь застонала. Сковорода заверещала. Ложка утопилась в кастрюле. Я поклялся, что в следующий раз съем бинт — он хотя бы не сопротивляется.
«Жизнь с ведьмой: симптомы и побочные эффекты».
Первая запись: «Мои вещи исчезают. А иногда — разговаривают. Сегодня плакали. Думаю, по мне.»
Я пробовал спать. Пару ночей. Потом понял, что веник под потолком смотрит на меня осуждающе.
— Он за мной приглядывает, — объяснила Аграфена. — Чтобы не прокрался кто-то… слишком милый.
На четвёртый день она начала молодеть.
Сначала — просто убрала капюшон. Потом — волосы. Потом — прошла мимо в чём-то, что, возможно, когда-то было занавеской… но теперь — вызов цивилизации, морали и термостойкости тканей.
— Доброе утро, доктор, — сказала она слишком бархатисто. Я уронил ложку в суп. Она всплыла. Как предчувствие.
— Спасибо. Я просто смыла сглаз. Твой. Ты смотришь завистливо. Это полезно для кожи.
С этого момента я начал бояться. Не смерти. Не болезней. Даже не вурдалаков. Я начал бояться… флирта.
Флирт у Аграфены был не намёками — а артобстрелом.
Сначала исчезла её хромота. Или она просто притворялась. Теперь она ступала так, будто под ней не старый деревянный пол, а взрывоопасная сцена. Платье — как будто шито из ночных туманов и чьих-то стонов. Когда она поворачивалась, ткань колыхалась с упрёком. Или с планами.
Она больше не шептала проклятия. Она мурлыкала.
Где-то между кофе и смертью от смущения.
— Птенчик, у тебя рубашка с плеча съехала, — сказала она однажды, не глядя.
— Удобная форма для обряда соблазнения. Хвала лени.
Я стал менять рубашки каждые три часа. Вскоре остались только те, которые носил ещё до института. Однажды она повесила на них бирки с надписью: «Вымученный стиль. Очень даже.»
Однажды я застал её в коридоре. Она стояла спиной, расчесывала волосы. И пела.
Голос — как сироп из греха. Волосы — чёрное колесо несчастий. На конце расчёски сидела мышь и краснела. Я её понимал.
Она обернулась и улыбнулась так, как улыбаются волки: не потому, что рады — а потому, что ты уже в капкане.
— Как ты думаешь, доктор… — начала она.
— Что? — спросил я обречённо.
— Если бы я была проклятием, ты бы стал искать способ избавиться… или способ жить со мной подольше?
Я уронил травник. Он раскрылся на странице «Смерть от перегрузки эмоциями. Не редкость».
Она оставляла мне послания на зеркале: «Ты сегодня особенно живой. Это возбуждает».
Или: «Улыбайся чаще. Я уже делаю на это амулет.»
Она раз в два дня подсовывала мне свёртки: зелья, печенье, закладки. В одном я нашёл иглу с надписью: «Против дурных женщин. Не применяй — я обижусь.»
Однажды я проснулся — и обнаружил, что моя подушка пахнет её парфюмом. Хотя я к ней не подходил. Никогда. Насколько мне известно.
— Я вложила туда сны, — сказала она за завтраком. — Мягкие. С намёками.
— Я видел, как ты учишь жаб готовить штрудель.
— Всё лучше, чем твои сны. Вчера ты спорил с бинтом. И проиграл.
Я начал заикаться. При ней. У меня появилась аллергия на её духи. Нос покраснел, как совесть ведьмы (если бы она существовала).
— У тебя щёки горят, — заметила она. — Это от страсти?
Однажды она вошла, села напротив и сказала без вступлений:
— Я нравлюсь тебе. Это не вопрос. Это напоминание.
— На вкус, опыт и добрую сотню заклятий. Что делает меня идеальной.
Я не нашёл, что возразить. Только налил себе валерьянки. Забыл, что она её перезачаровала. Через минуту я пел колыбельную чайнику.
Вывод: ведьма, которая решила флиртовать — это не беда.
Беда — это когда она флиртует хорошо.
И ты начинаешь хотеть продолжения.
На седьмой день она принесла мне чай. С корицей. И розовой пенкой.
«Зелье страсти. Пей, если хочешь глупостей».
Я поставил её обратно. Через перчатку. На отдельный стул. Который потом выбросил. Стул начал скучать.
«Некоторые травы собирают до рассвета, чтобы сохранить силу. Другие — чтобы никто не видел, как они ползут тебе в сумку обратно.»
Это началось примерно в полночь. Я сортировал мох по степени агрессивности, когда дверь вылетела, как будто ей пообещали доплату за драматичность.
На пороге стояла Аграфена.
Волосы — как змеевик после грозы.
Глаза — с блеском, который в медицине классифицировался как «интоксикация или сексуальная ловушка».
В руках — корзина. В ней что-то пищало. Возможно — я, мысленно.
— Надевай сапоги, доктор. Идём собирать травы.
— Полночь — идеальное время. Все приличные растения спят. Остались с характером.
— Это… санитарная проверка?
— Конечно. Я же не зову тебя на свидание. Пока.
Через пятнадцать минут мы были в чаще.
Лес перешёптывался. Один куст, кажется, покраснел, когда Аграфена мимо прошла.
— Вот это, — сказала она, — забвеница. Пахнет как бывший. Голову отшибает.
Она сунула мне под нос. Я забыл, кто я, и назвал корзину «мамой».
— Вот дурмолист. Он говорит правду, когда его срываешь.
— «Ты ей нравишься, глупый мальчишка».
— Ну вот, — вздохнула она. — Теперь даже ботаника против тебя.
Следующий цветок обвился вокруг моей ноги.
— «Объятушник». Не он обнимает. Ты. Всё подряд.
Я отлепил от себя цветок, как пьяную тётку от чужого жениха, и попытался сделать вид, что всё под контролем. Хотя корзина снова пищала, мох сгинул в кустах, а одна из трав уверенно подмигнула мне из-за спины.
— Ты уверен, что это просто ботаника? — хрипло спросил я.
— О, это высшая ботаника, — сладко протянула Аграфена, присаживаясь на упавшее бревно, которое… дрожало. Я не винил его.
Она закинула ногу на ногу так, что даже у ближайших грибов началась фотосинтетическая паника.
— Природа любит уверенных, миленький. Ты просто не привык, что растения к тебе тянутся.
— Они пытаются меня съесть.
Мы пошли дальше — и лес начал пятиться. Я не преувеличиваю: деревья тихо скрипели, отодвигаясь. Один дуб вообще сбежал — на своих корнях. Лягушка спрыгнула в воду и больше не всплывала. В воздухе повис запах дыма и феромонов. Моих, судя по дрожи в коленях.
— Кажется, нас боятся, — прошептал я.
— Конечно, боятся, — сказала ведьма. — Ты — с медицинским дипломом, я — в коротком плаще. Кто бы не испугался?
Мы подошли к поляне. Там росла синевица — редкое растение, распускающееся только в присутствии взаимной симпатии. Или в условиях неминуемой катастрофы.
Аграфена наклонилась к цветку. Я тоже. Мы встретились взглядами. Цветок вспыхнул, завыл, сам себя выдрал из земли и сбежал.
— Что это было? — спросил я.
— Психосоматическая аллергия к флирту, — пожала плечами она. — У некоторых цветов психика нежнее, чем у людей. Особенно у людей с перхотью.
Следующим был куст «раздевальник обыкновенный». Он мгновенно сорвал с меня плащ.
— Это не я! — взвизгнул я, прикрываясь корзиной.
— Я не жалуюсь, — мурлыкнула она. — У тебя очень… структурированная анатомия.
— Это мои рёбра. Они просто очень выпуклые от ужаса.
— Прекрасный стиль. Природная защита от женщин и вампиров.
Я натянул плащ обратно. Куст тихо всхлипнул.
Она увидела гриб томнушку — и, забывшись, сорвала его. Гриб взорвался конфетти и криком:
«Кокетство достигло критической массы!»
Настоящим румянцем. Не боевым. Не магическим. А живым.
— Ну, бывает, — буркнула она, отводя глаза.
— Вас тоже можно смутить?
Секунду спустя на тропу выполз крапивник — чудище с тремя глазами и хронической мигренью. Он глянул на нас… и лег обратно. Видимо, решил, что ничего не может быть страшнее этой сцены. Даже он.
— Знаешь, — сказала она наконец. — Если мы пройдёмся по деревне так, с веночком в волосах и объятушником в обнимку, нас запишут в летописи.
— Под рубрикой «экологические катастрофы».
— Или «романтические победы».
Вывод: когда лес боится тебя — не обязательно значит, что ты силён. Может, ты просто непредсказуемо влюблён.
Мы вернулись под утро. Туман стелился по тропинке, как влюблённый змей — липкий, вьющийся и с нечистыми намерениями. Дом на курьих ножках увидел нас первым — и, кажется, сделал вид, что спит. Или потерял сознание.
Аграфена шла впереди, босиком, с цветком за ухом и корзиной в руке, которая теперь пищала реже — возможно, растения внутри от ужаса впали в кому. Она целовала воздух, как будто он принадлежал ей. И немного — мне.
Я шёл следом, задевая каждый куст, каждый корень. В какой-то момент земля подо мной вздохнула. Я не стал уточнять, от чего.
Перед дверью она остановилась. Щёлкнула пальцами — и дверь сама открылась, слегка всхлипывая.
— Добро пожаловать обратно, доктор, — сказала она. — Ты был очень… полезен.
— Амулета, отвлекающего манёвра и источника мягкой энергетики. Впечатляюще.
— Спасибо. Я горжусь своей неосознанной боевой функцией.
Внутри было темно, но уютно. Печь мурлыкала. Ложки строили что-то вроде баррикады — возможно, против новых трав.
Она подошла к стене, вздохнула и провела рукой по бревну — как по плечу старого друга или бывшего мужа. На этом месте из воздуха сложился венок — из шептуна, зверобоя, и чего-то, что выглядело как лунный волос, спутавшийся в грезах. Он засветился мягко, но тревожно. Как светильник, который знает, что ты не один в комнате.
— Это что? — спросил я, уже зная, что пожалею.
— Оберег. От одиночества. Я… добрая. Иногда. Пока ты не будешь слишком мил.
Она повесила венок над моей кроватью. Он сразу начал шептать.
Мягкие всхлипы. Нежные упрёки. Моё имя — в разных интонациях. И, кажется, фамилия тоже. Хотя я её никогда не называл.
— Он будет звать тебя, когда ты будешь забывать, что ты не один.
— Это забота. Просто… ведьминская.
Я лёг. Не то чтобы хотел. Просто отказали колени.
— Доброй ночи, доктор, — раздалось за стенкой.
— Сомневаюсь, что она будет доброй.
— Ты мне нравишься, когда боишься.
Сначала венок шептал. Потом — запел. Потом начал обсуждать мои привычки. С собой. И с занавеской.
Я встал, снял его, положил под стол. Через минуту он снова был на стене.
Снял. Запер в сундук. Вернулся. Он уже на месте. Похлопал меня по плечу.
На третий раз я извинился.
Вывод: настоящая ведьма не заколдовывает тебя.
Она заставляет тебя самому искать, где бы подписать соглашение о долгосрочном заколдовывании.