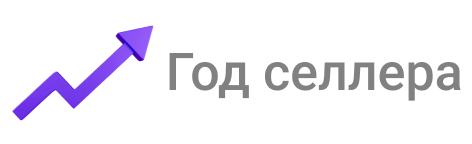Помер ни с чего, как будто бы. Прихворал немного, ну, а кто не хворает-то в восемьдесят семь годов, все хворают. Прилёг полежать, да и замолк. Дышал ещё, но молчал, ни словечка вслух и в рот ни капли: ни молока, ни чаю, ни бульона. Внук его, муж мой с города приехал, посменно с мамой сидели у дедушкиной кровати, дежурили – ну, вдруг, поплохеет ему или, наоборот, заговорит да попросит чего. На третий день лежания, под вечер уже, деда Коля приоткрыл глаза и сказал внуку:
Бабушка не плакала. Она причитала. Причитала на разные лады: то громко, чтобы в каждой комнате слышно было, то тихохонько, себе одной под нос. Причитала по разным поводам, но по всем одинаковым недовольным тоном. Недовольна она была примерно всем вообще.
— Куды клась-то его станут, а? Местов-то на кладбище уж нету, небось, не родительская же! А слякища-то какова, о-хо-хоюшки, батюшки святы! Это что ж, в мокрющее это его клась теперича-то придётси, а?! Ой, не могу я больше, ничего ж не удилано у нас, а он умёрши уже, чтож дилать-то станет, ой, горюшко…
Она требовала от нас отчётов буквально по каждому пункту: в какой точке кладбища нашли место для похорон, какая земля там – чернёхонька али глиниста склизка, сколько мужиков могилку копать станут, какой высоты и длины оградку привезут, хватит ли рядышком с дедом места ей лечь и нам троим вдовесок, какая еда будет на поминках и в каких количествах… И так далее, и так далее, и так далее…
Мы не спорили. Мы вообще по жизни привыкли с бабушкой шибко не спорить – себе дороже обойдётся. А тут, когда такое дело и вовсе на всякий её каприз соглашались, хоть и не было во многих из них того смысла, которого хотелось ей видеть. Мы сделали всё по-бабушкиному, категорически всё.
Выкупили на краю сельского кладбища участок сразу на пять могил – на всю семью нашу. Оградку тоже сразу же заказали и поставили, чтобы видела бабушка – наше, всё наше, насовсем. Дали мужикам-копачам водки, как велела бабушка, хотя они, естественно, денег хотели за свою работу (денег тоже дали, само собой, только без ведома бабушки, в её мир это не поместилось бы, в её мире могилы только за водку копают). Заказали в местной столовой отдельную комнатку и всё положенное поминальное меню: с кутьёй, с блинами,с водкой (куды ж без неё-то), с селёдкой, ещё чем-то там, уж не помню. Заказали дурацкий пластиковый венок с разноцветными розами и уродливыми подобиями хризантем – поярчей да порадостней, как бабушка стребовала.
Четырнадцатого февраля я ехала из города в деревню, хоронить дедушку. В цветочном стояла толпа покупателей и продавцы недовольно покосились на мою чёрную повязку и просьбу собрать букет с еловыми веточками, без сердечек и купидончиков. В цветочном было неподходящее время для похоронного букета, но я всё равно его получила – с пятнадцатью кустовыми розами, взамен заказанных мне четырнадцати. Я хотела хоть что-то в этот день сделать по-своему, что-то такое, что точно понравилось бы дедушке. Он любил жёлтые розы. Я везла пятнадцать лимонных головок и думала, что пока их нечётное число – дедушка как будто бы жив, ещё немножко жив. Ещё думала, что бабушка не станет же пересчитывать кустовые розы, а если и станет, то собьётся непременно – у ней не особенно бойко считать получается. Ещё думала о том, что я не напрасно три года назад на нашей свадьбе сделала портрет дедушкин – оказалось теперь, что это единственная его качественная фотография. Её и распечатали, её и вставили в рамочку с траурным уголком – для поминального стола, тоже бабушка распорядилась, положено так, говорит.
На кладбище бабушка тоже не плакала. Она деловито осматривала подготовленное место похорон, выговаривала новые недовольства:
— Это чтож, мужики не могли что ль корневища повыдирать-то? Глянь-ко, кусище цельный во внутря могилки торчит! Ой, ничего-то без меня удилать не могут, надо ж было Мишку звать копать, а не энтих иродов! Это чтож, мало того, что слякиша да комья мокрющие, так ещё и дерева разростут теперича! И оградка, кака-то хлипенька оградка, аль не? Выдерут ить мальчишки, как есть выдерут, обормоты!
Бабушка причитала и периодически трясла внука за рукав куртки, пытаясь привлечь его внимание к очевидным ей одной проблемным зонам места захоронения. Внук молчал и смотрел, как мужики осторожно, стараясь не осклизнуться на мокрой глине, несут гроб к табуреткам на краю могилы – для прощания.
Бабушка прощалась первой, по старшинству. Но не прощалась она с дедушкой, скорее отчитывала его, как при жизни выговаривала ему за пролитую случайно мимо тарелки кашу, так и теперь, за помирание в неподходящее время:
— Ты чтож это надилал-то, Коленька, а?! Это чтож, мне теперь одной-одинёшеньке всё дилать? Знаш ить, в огороде ничегой-то ни удилано, на погребе да в сарае тож дил полнёхонько, а ты разлёгси и лежишь умруши весь, так-то ты со мной, да? Это ж сколько мне работёнки навалилось через тебя, ох, страх сказать!
Бабушка приостановила монолог, и задумчиво смотрела в слякишу, очевидно перебирая в голове все провинности дедушки. Мама тихонько отвела её от гроба, чтобы попрощались остальные. Погода и взаправду была мерзейшей, февраль, чего уж с него возьмёшь, он всякий раз такой – сырой, студёный да склизкий. Попрощались мы с мужем, пара старушек и дядя Серёжа, про которого никто уже толком не помнит – кому именно со всей деревни он дядя, но здоровается каждый, на всякий случай. Бабушка внимательно блюла, как все прощаются, но всё так же не плакала.
Я тоже не плакала. Я ввалилась по колено в промоину на чужой свежей могиле и, пока бабки вокруг меня причитали да ахали, я злилась. Злилась на то, что единственный в моей жизни дедушка, доставшийся мне вместе с мужем, был у меня всего три года. Был и бросил. Злилась, что никто так и не посчитал розы в привезённом мной букете и не догадался, что дедушка живой, живой он, не умруши. Злилась на извазюканную в глине ногу и студёную воду, забравшуюся внутрь сапога. Впрочем, на ногу злилась так, самую малость.
В поминальный зальчик, рассчитанный на двадцать человек, пришли поминать шестеро: бабушка, мама, муж, я, тот самый дядя Серёжа и ещё какая-то женщина (даже не старушка, так, средних лет, вроде бы почтальонша – дедушка любил газеты выписывать, оттого-то его на почте шибко любили). Стол, как и хотела бабушка, был забит до отвала – не то чтобы кошке некуда присесть, так даже для портрета местечка не нашлось, пришлось на маленький соседний столик его ставить. Бабушка сидела и устало вполголоса причитала, что даже за упокой-то Коленьки выпить некому:
— Вси, кто старики пьющи были, так ти вси давно умруши, да… А кто живы, так ти не пьющи, от горе-то с вами… Хоть ишти-то, а, Христом Богом прошу, ишти, не сидите гостями-то!
Мы впихнули в себя несколько ложек слипшегося сладковато-приторного риса с кусочками разварившейся кураги и комочками слипшихся изюмок. Надкусили по блинку с творогом. Водку уж в себя пихать не стали – это слишком, но по рюмашкам немного разлили, для утешения бабушкиного, для виду. Почтальонша посидела минут двадцать, съела блинчик, выпила компоту и ушла, отговорившись работой. Дядя Серёжа и вовсе не мог поесть почти ничего – врач запрещает ему сладкое, жирное, мучное, алкоголь. Поклевал малость картошки, с того бочка, где селёдка не касалась, поклонился дедушкиному портрету и тоже засобирался домой, таблетки принимать.
Бабушка утомилась причитать и уговаривать всех соответствовать её правилам. Молча сидела и смотрела, как мы с мамой укладываем в пакетики и контейнеры продукты, которые можно забрать домой. Молча разрешила отвести себя домой. Молча ушла в свою комнату, поставила дедушкин портрет к образам, села на кровать и заплакала. Плакала долго, около двух часов. Потом заснула, но во сне продолжила громко бормотать, отчитывать дедушку за все дела на энтом свете им недоделанные и за смерть несвоевременную.
Дедушкина смерть открыла новую эпоху в жизни бабушки – эпоху умирания. Точнее, подготовки к смерти, а, если ещё точнее – выматывания всех членов семьи своими подготовительными идеями и требованиями их незамедлительного исполнения без всяких обсуждений.
Раньше для бабушки похожее значение имел только огород – это ради него, родимого, она могла позвонить нам в город часиков эдак в пять утра вторника и сообщить, что требуется немедленно приехать и выкопать всю картошку, потому что соседи уже лопаты у погребов поставили, стало быть скоро копать пойдут и ей людей будет стыдно. И любые наши жалкие предложения отложить данное знаменательное событие до выходных заканчивались тем, что бабушка заявляла:
— Это чтож, мне тут одной всё надо-то, а?! Ничегошеньки ни удилано, куда откладать-то ищо!
После чего бросала трубку и, повязавшись косынкой, топала на огород в гордом одиночестве. После таких подвигов бабушка обыкновенно возвращалась с огорода под вечер, ложилась на кровать и заявляла, что помрёт вот прямо сейчас. Через полчасика вспоминала, что картошку ещё перебрать надобно, вставала и начинала шуршать в своих волшебных шкафах – искать тряпку для перебирания картошки. Помирание, естественно, откладывалось до лучших времён.
А дедушка взял и помер вдруг, не дожидаясь этих самых подходящих для смерти времён – вот же безответственный человек! (по мнению бабушки, естественно). Теперь огород потерял своё прежнее значение в её голове, и все мысли стали заняты одним только кладбищенским участком и улучшениями на нём:
— Корневища-то, надобно сходить, повыдирать надо! И каменюки небось выперлись из глины, склякища вона кака страшна была, небось повымыло их все!
— Песочку бы, песочку бы привезть да развалить внутрях оградки-то. Народ как пойде к Радонице сыпать песок, а у нас уже всё хорошенькое, убрано, прелесть!
— Памятничек, памятничек надо ставить! Я спать не могу спокойнёшенько, не то что помирать! Как подумаю, что памятники у всих уж стоят, а у нас нит, как нит всё ищо, так и худо мне сразу делаитси, ставить надо, душеньку мою успокоить.
Мы в три голоса пытались успоить бабушкину душеньку убеждениями, что в первый год негоже памятник ставить, что надо подождать осадки почвы и так далее. Обещались, что непременно поставим памятник им общий с дедушкой, с общей фотографией, даже каталоги приносили и выбрать вместе предлагали, чтобы заранее заказать, при её жизни ещё. Бабушка вздыхала, качала головой, замолкала на несколько дней, а после снова голосила, что ничего-то без догляду ейного ни удилано у нас и даже памятничек мы для спокойствия ейного поставить неспособны.
Мы устали. Мы заказали дедушке памятник. Мы сделали всё так, как хотела бабушка: памятник ростом ей по плечо, с крупными буквами (чтобы она прочесть сумела), с размытой старой дедушкиной фотографией годов из шестидесятых (не захотела она в упор, чтобы он старым на памятнике был, а портретов крупных да качественных трактористам в колхозе не делали, знаете ли). Бабушка была счастлива. Бабушка проинспектировала памятник и показала нам большой палец вверх:
— Во какой памятник Коленьке моему вы поставили, во! Теперь-то и мне помирать спокойнёшенько будет, всё удилано теперь, не совестно перед людями мне.
Бабушка ходила счастливой и довольной ровно неделю. Перебирала своё бережно складенное похоронное, ни к кому из нас не приставала, тихонечко собиралась помирать, всё ж удилано. Через неделю после установки памятника бабушка проснулась, вышла к завтраку задумчивая и после чая сообщила:
— Что-то неспокойно мне, о-хо-хоюшки… Коленька снится, в коридоре валяится и молчит. Нехорошо, стало быть что-то на кладбище-то, оградку покрасить что ли надо или ищо чего… Отвезёте меня, я погляжу, скажу, чего удилать там надо, скажу вам.
Кошка водила по сторонам своими круглыми жёлтыми глазищами и, кажется, молча, на своём кошачьем языке поддерживала нашу не прозвучавшую мысль о том, что времена с выкапыванием картошки в пять утра были не самыми тревожными в жизни дома. По крайне мере, дедушка тогда трепал рукой серую кошачью шёрстку, закрывал за всеми дверь со словами:
— Вы идите, а мы с котом на хозяйстве остаёмси!
И в доме на несколько часов наступала тишина и покой. Были времена… Конечно же, тоже совершенно неподходящие, чтобы кому-то там в них помирать.