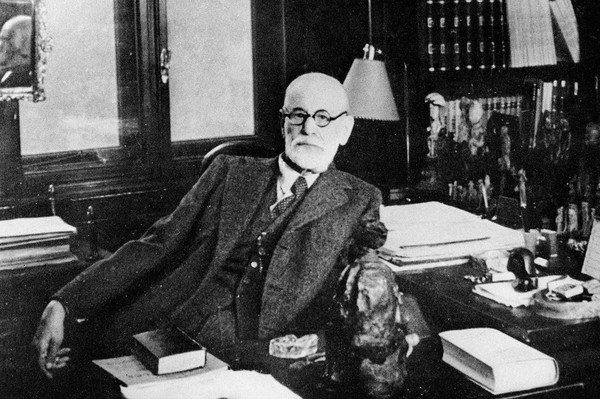Пост в Лигу психотерапии.
Цикл постов о жизни советских людей в Киеве в годы оккупации нацистами.
Цитаты по изданию: Кузнецов А.В. Бабий Яр. М: Захаров, 2001. 359 с.
Матросов гнали в Бабий Яр в очень холодный день, кажется, даже порошил снег. По слухам, это были речники, матросы Днепровской флотилии.
Руки у них были скручены проволокой, но не у всех, потому что некоторые поднимали над головами кулаки. Они шли молча (может, за крики в них стреляли), только иногда так поднимался кулак, словно человек потягивался и разминал плечи.
Многие шли босые, частью голые до пояса, а некоторые в одних подштанниках. Особенно жутко шли передние– плотным рядом, глядя перед собой, выступая так, словно они были гранитными.
Кричали и дрались они уже в самом Бабьем Яре, когда окончательно увидели, что их расстреливают. Они кричали: «Да здравствует Сталин!», «Да здравствует Красная Армия!», «Да здравствует коммунизм!». Они верили, что умирают за всемирное счастье, и немцы косили их из пулеметов во имя того же.
Я сидел, несчастный и злой, под рундуком на базаре, и ветер почему-то ухитрялся дуть одновременно со всех сторон, мои руки и ноги заледенели, моя вакса к черту застыла, но я уже не надеялся, что кто-нибудь явится чистить сапоги, потому что темнело, расходились последние торговки и близился комендантский час. Зарабатывал я на чистке сапог не больше, чем на папиросной бумаге или газетах, но не бросал этого дела, всё чего-то ожидая.
И я удивленно посмотрел вокруг, и с мира окончательно упали завесы, пыльные и серые. Я увидел, что поклонник немцев дед мой – дурак. Что на свете нет ни ума, ни добра, ни здравого смысла – одно насилие. Кровь. Голод. Смерть. Что я живу и сижу со своими щетками под рундуком неизвестно зачем. Что нет ни малейшей надежды, или хоть какого-нибудь проблеска надежды на справедливость. Ждать неоткуда и не от кого, вокруг один сплошной Бабий Яр. Вот столкнулись две силы и молотят друг друга, как молот и наковальня, а людишки между ними, и выхода нет, и каждый хочет лишь жить, и хочет, чтобы его не били, и хочет жрать, и визжат, и пищат, и в ужасе друг другу в горло вцепляются, и я, сгусток жиденького киселя, сижу среди этого черного мира, зачем, почему, кто это сделал? Ждать-то ведь нечего! Зима. Ночь.
Уже не чувствуя рук, машинально стал собирать свои причиндалы чистильщика. Слышался стук копыт: через площадь ехала колонна донских казаков. Я даже не очень обратил внимание, хотя такой маскарад видел первый раз: усатые, краснолицые, с лампасами и богато украшенными саблями, словно явились из 1918 года или со съемок историко-революционного фильма. Комендант Эбергард подмогу вызвал, что ли?..
Поспешил домой, потому что быстро темнело. От казачьих коней в воздухе тяжело запахло конюшней; по дворам лаяли голодные собаки; в Бабьем Яре стрелял пулемет.
Человек живёт, чтобы есть
В книгах, мною прочитанных, говорилось о любви и страданиях, о путешествиях и великих открытиях, о подвигах борцов революции и борьбе за светлое будущее. Но почему-то редко говорилось, откуда каждый день берется еда, чтобы бороться, делать открытия, путешествовать, страдать и любить. Они будто питались с неба, герои большинства книг. Вероятно, где-то как-то там ели, обедали – и совершали заслуживающие большего внимания дела, подвиги. Но постойте с подвигами, а пообедать-то вам как удалось?
Куда ни посмотри, большинство людей в жизни озабочено именно тем, что поесть. Во что одеться. Где жить. И многие отданы этим заботам целиком, без остатка, так тяжко это им достается. Не потому, что им так нравится, а потому, что иначе не могут.
Один мудрец сказал: человек ест, чтобы жить. Другой ядовито добавил: а живет, чтобы есть.
Да, конечно, дворецкий провозглашал «Кушать подано», старый чудаковатый граф предлагал руку графине со следами былой красоты, на лице, и общество, галантно беседуя, шествовало к столу. Но это было до Октябрьской революции.
На очень, очень многих страницах книг описывались пиры разнообразных королей и мушкетеров, безусловно заслуживающие внимания, ушедшие в глубокую древность, и я о них читал с любопытством, примерно как мифы о подвигах Геракла.
Но, признаться, мне куда ближе был отверженный Шолом-Алейхем, у которого люди так отчаянно бились за кусочек хлебца, варили на продажу чернила, делая на них бизнес такой же, как я на папиросной бумаге. Я с безграничной любовью и благодарностью читал и перечитывал каждую строчку Тараса Шевченко, у которого мать жала чужую пшеницу на панщине, а дитя свое клала на меже, суя ему в тряпице жвачку с маком, чтобы не пищало. И как я понимал всю глубину, всю сложность проблемы шинели Акакия Акакиевича у Гоголя.
Хлеба нет. А человек такое занудное создание: чуть родился, так уж сразу хочет есть. Боже мой, но ведь это же вдуматься только: нужно каждый день, каждый день есть, чтобы жить!
Я экономил, не завтракал, рассуждая, что если не позавтракаю, значит, больше будет на обед; а если и не пообедаю, значит, будет на завтрашний день.
Но тут бабка заметила, что у меня начинают опухать руки и ноги, она с матерью почти перестали есть сами, отдавая куски мне.
Я должен был добывать пропитание! У меня каждый день стучало в голове: как достать поесть? Ходил, внимательно-испытующе осматривал кладовку, сарай, погреб, двор. Камни, щепки, черепки, сор, пыль...
Умер от голода старый математик нашей школы Балатюк, он последние дни пытался работать дворником. Открывались заводы, и рабочим платили зарплату – 200 рублей в месяц.
Буханка хлеба на базаре стоила 120 рублей, стакан пшена – 20 рублей, десяток картофелин – 35 рублей, фунт сала – 700 рублей.
Уходя на войну (чтобы никогда не вернуться, ни с чемоданами, ни без) отец Жоры Гороховского, слесарь с Главпищемаша, оставил все свои инструменты. Отцовская мастерская в сарайчике стала Жоркиной. Сарайчик от пола до потолка был завален железной рухлядью, потому что у Жорки было правило жизни: какую бы железку он ни видел на земле, он ее тотчас подбирал и определял в свою сокровищницу.
Просидев четыре года на одной парте, мы очень сдружились. Жора был серьезный парень, считал, что не хлебом единым жив человек, но нужнее всего железо. И доказал: приспособился делать зажигалки из стреляных гильз. Мы с его младшим братом Колькой только, разинув рты, с уважением смотрели, как он священнодействует паяльником.
Колька, тот был прямой противоположностью старшему брату: беззаботный лентяй, бродяжка. Еще он любил уничтожать: если находил электрическую лампочку, значит ей судьбой уготовано быть хлопнутой о камень; огнетушитель следовало приводить в действие тотчас по обнаружении.
После ухода воинской части в доме училища открылась столовая для стариков. Сотни стариков поползли с клюками, с кастрюльками и ложками. Управа выдавала карточки самым умирающим, опухающим и одиноким, и они, трясясь и ссорясь, толпились у раздаточного окна, получали по черпаку баланды, тут же за столиками хлебали, смаковали, чмокали, давились, обливая бороды.
Мы с Колькой уныло ходили между столиками, почти ненавидя стариков, глядя на миски, которые они ревниво прикрывали руками.
Вдруг кухарка позвала нас:
– Воду носить до бака будете, хлопчики? Супу дам.
Эх, мы чуть не взвыли от счастья, схватили за ручки самую большую кастрюлю, чесанули к колонке. Носили до самого закрытия, подлизывались, заглядывали кухаркам в глаза, и нам налили по тарелке, до краев, и мы, гордые, счастливые, хлебали долго, растягивая удовольствие, молясь, чтобы вода была нужна завтра, послезавтра.
Дед мой попытался тоже раздобыть карточку. Ему не дали: сказали, что еще может работать. Он так горевал, что его приняли в столовую ночным сторожем. Он взял кожух и подушку, отправился на первое дежурство, и я пошел за ним. У меня созрел смелый план.
Пока дед вздорил с кухарками и посудомойками, что ему не оставили баланды, я смирно сидел в углу. Похлопали двери, все разошлись, дед заложил парадное ломом и стал устраивать себе ложе из скамеек, злобно бормоча: «Горлохватки проклятые, полные кошелки домой поперли, аспидки...»
Я решил начать со второго этажа. В доме были длинные коридоры с множеством дверей в аудитории и учебные кабинеты, и во всем этом огромном доме мы с дедом были одни.
В аудиториях стояли топчаны на козлах, пол был усыпан соломой, бинтами, бумажками, и стоял тяжелый солдатский дух. Я лихорадочно принялся рыться в соломе, шарить под помостами. Одни окурки и журналы.
Фотографии в журналах были отличные, на глянцевой бумаге. Немцы стоят и смотрят на соборы древнего Смоленска. Улыбающиеся люди в русских народных костюмах протягивают генералу хлеб-соль. Типичная русская красавица, с богатой косой, словно из русского народного хора Госконцерта, голая, этакая грудастая, сидит задницей в шайке под бревенчатой стеной, и подпись: «Русская баня». Эту картинку я сунул под рубашку, чтобы по секрету показать Жорке и Кольке.
Недокуренные, растоптанные бычки я все собирал в карман. Жрать хотелось так, что темнело в глазах. Пираты когда-то жевали табак, и я стал жевать окурки, но это было горько, обжигало язык, насилу отплевался.
Сухарь я нашел только в десятой или двенадцатой комнате. Он был с половину моей ладони, заплесневел, но был из настоящего белого хлеба. Я стал грызть его, не обскребая, чтоб ни крошки не пропало, слюнявил, разбивал о подоконник, клал кусочки в рот, сосал, пока они не превращались в кашку, перемешивал ее языком во рту, изнывая от вкуса, не спеша глотать, – у меня мурашки шли по телу. Думал про себя: псы, ведь они дураки, кинь ему хлеб, он хлам, хлам, заглотал в один миг, а у человека есть голова, удовольствие можно продлить, и сытнее вроде.
Добыча с третьего этажа была беднее – скрюченная черная корка величиной с полмизинца.
Уже начинало темнеть, а главное еще не выполнено, я соскользнул с ящиков и покатился по лестницам вниз. Дед храпел на скамейках. Я шмыгнул на кухню. Вот оно!
В кухне стоял пресный запах баланды, но плита совсем остыла, на ней громоздились огромные сухие и чистые кастрюли, сковороды тоже были чисты. Я шарил по столам и под ними, обследовал все углы – ничего, ни крошки, ни хотя бы помойного ведра.
В жизни не видел такой голой, чистой до пустоты кухни, и лишь этот пресный запах сводил меня с ума.
Пытаясь найти хоть крупинку пшена, я стал ползать, изучая щели в полу. Все чисто подметено! Я не мог поверить, начал поиск с начала. В одной кастрюле что-то чуть пригорело к стенке и не отскреблось – я поскреб и пожевал, так и не поняв, что это. Одна из сковород показалась мне недостаточно вытертой. Я принюхался – она пахла жареным луком. Ах, проклятые горлохватки, аспидки, они для себя суп даже заправляли луком с подсолнечным маслом! Я заскулил, так мне хотелось супу, заправленного луком. Я стал лизать сковороду, не то воображая, не то в самом деле ощущая слабый вкус лука, скулил и лизал, скулил и лизал.
(Продолжение следует)
Вопросы по тексту.
Герой "Записок" мучается своей второсортностью оттого, что он в тылу, а не воюет на фронте. Как информационная среда помогает ему ощутить себя частью единого народа?
Толик в оккупированном городе записан во второсортное население нацистами. Как думаете, почему Толик теряет веру в добро?
Если рассуждать об авторах этих книг, то Лидию Гинзбург отличает сильный внутриличностный интеллект, понимание внутренних механизмов переживаний и решений, а Анатолия Кузнецова отличает сильный межличностный интеллект. Предсказуемо, одна в ситуации голода не помышляет о торговле, а другой - становится из пионера предприимчивым и добывает еду любыми возможными способами. Оба страдают от холода и хронического недоедания, истощения, дистрофии.
Как думаете, отчего одна не теряет веры в хорошее на пороге смерти от недоедания и холода, а другой всё больше погружается в переживание безнадёжности и беспомощности и не видит света во тьме мирового зла?