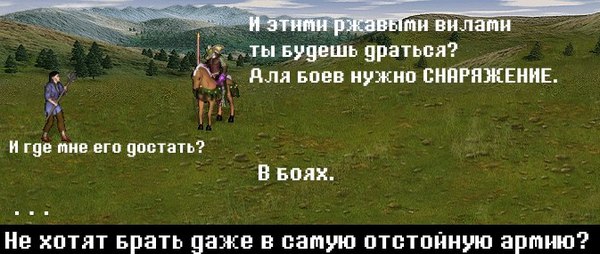Непристойный Апокриф
сущ.803. 3,14.
Разговелся некромант, доигрался с крайней плотью. Стала она бескрайняя.
После долгого поста на чёрных сухарях и ледяной воде из лужи, где утонула надежда. Съел нечто жирное, тёплое, запретное. Может, кусок брюха, заправленный рубахой. Может, тухлое сало собственного страха, что свисало зажатое до хруста коленями.
И от этого, знаете ли, распоясался. Не в смысле поведения. В смысле плоти. Крайней.
Была она, плоть та самая, — скромная, стыдливая, загнутая капюшоном над тайной малой. Убранная. Соблюдала приличия создания.
Но после разговения... О, братие... Стала она бескрайняя.
Это не метафора распутства. Это — топографический ужас.
Плоть сползла. Как плёнка молочная на остывающей каше мироздания. Она обволокла сначала подземелье, а после подсознанье. Потом, тончайшей, чуть влажной, живой пеленой, стала подниматься по стенам, застилать своды. На этом месте у меня отошли воды.
В эпоху Минойскую она затянула ликом своим мерцающим черепа предков. Она обволокла фолианты, сделав их страницы неперелистываемыми, сросшимися в один молочный мочевой суповой пузырь. Она добралась до петушка розовевшего — и тот, уже синий от стыда, оказался закутан, как леденец из холодца, в пелёнку, и замолк.
Всё стало покрыто этой бескрайней крайней плотью. Без швов. Без рубцов. Без единого намёка на край, границу, предел. На этом месте я напердел.
Исчезло Внутри и Снаружи.
Слилось Тайное и Явное.
Тёплое и Мягкое
Стыд и Невинность стали одним непрерывным, слегка пульсирующим полотном.
Я пытался проткнуть её ритуальным ножом — лезвие вошло без сопротивления, не оставив раны, лишь пошло по телу волнение, отчего лишь я, босой, захотел бутерброд с колбасой, лишь вызвав лёгкую рябь, я прослабился на поверхности, как от прикосновения к водам.
Я крикнул, взревел — звук не отражённый, не поглощённый, а облизанный со всех сторон этой всеобъемлющей влажной пеленой, и вернулся ко мне шёпотом, похожим на ласку. Я попал в сказку.
Это не та сторона. Это — околоплодие. От оскопления бывает бесплодие. Вселенная, завернутая в собственную крышку, укачанная и теряет подвижность.
И прозрение пришло не как озарение, а как тихое, неизбежное окаченение:
Вот оно. .
Вот она — магия . . окончательной нескромности, обнажившая всё до степени тазобедренного сустава. Ещё порция чудодейственного отвара.
Вот — воскрешение не в духе и не в теле, а в ткани, что их когда-то разделяла.
Я не чешу пазуху некроманта, больше не чешется чешуя. Ибо негде. Нет отдельного места для зуда. Зуд — везде. И он — не страдание, а форма жизни этой новой бескрайней кожи. Видел бы ты сейчас свою рожу!
Я закрываю глаза от дурного сглаза. Но чую дурной газ. Это ты? Не важно.
Теперь я чародей — пуповина. Связующее звено.
И где-то в толще этой вселенской крайней плоти, уже синий и безмолвный, тихо покачивается, как в околоплодных водах, ты, читатель. Спасибо что дочитал до конца.