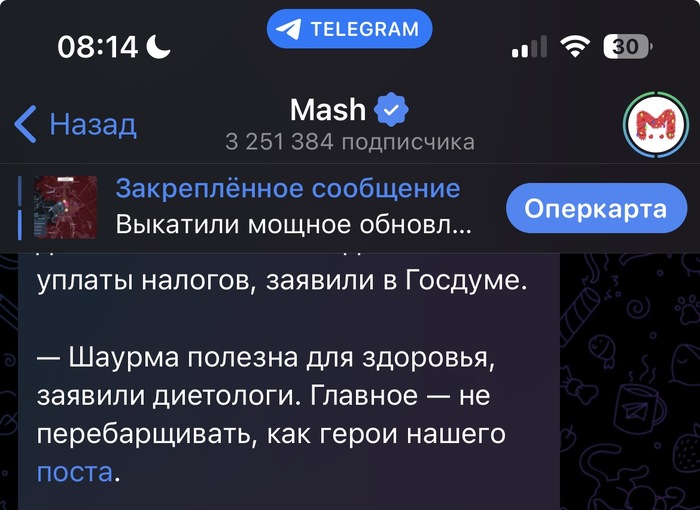Сегодня меня "обгудели". Граждане, давайте что-ли будем немного на дорогах почеловечнее1
Можете меня закидать тапками, можете обоссать, можете меня закидать ночными горшками с мочой, лишь бы не чугунными,(а то задолбаюсь уворачиваться. Буду тогда Тамара - Вертишейка тут.))))) Мне пофиг, как могу так и еду.
Вот ситуевина на дороге. Поехала я за комбикормом. Перед морозами как раз надо.
А у них к магазину плохо дорога почищена и вообще резкий поворот направо. Магазин "Завхоз", если чё, поворот на Оргтруд, напротив села Лемешки, трасса М7. Еду со стороны Нижнего Новгорода.
Обычно я там на обочину сьезжала и с обочины уже сьезжала на поворот на магазин. А тут обочина вся в снегу. Чё делать?!
Ну, еду по прямой, включила поворотник правый, начинаю медленно снижать скорость. Ну люди ж видят сзади, что поворачиваю. Всё горит, лампочки работают все, я за этим перед каждым выездом на трассу слежу, чтобы всё работало, всякие лампочки, и шарики по бокам круглые желтые.
Неееее, это не всем понятно, поворотники эти ваши. Надо обгудеть, обсигналить, не снижая скорость типа обогнать, облить грязью. Ну нахер? Вы чо? Скорая помощь? Или ГАИ, или "пожарка" на пожар опаздывает?
Вы ни то, ни это, и ни третье. Вы просто ебнутые. Я скорость снижаю, чтобы направо повернуть. Причём достаточно медленно снижаю. Просто сбрасываю ногу с газу.
Я не могу направо под девяносто в прямой угол по снегу въехать. Я всё включила, все огни, какие вам надо. Поворотники всякие. Чё вам ещё надо? У вас чё, глаз нету уловить мою машину с поворотником? Вы слепые? Или ненормальные? А кто вам тогда права продал дал?
Давайте будем хоть немного человечнее на дорогах зимой особенно. И вообще смотрите перед собой, а не в телефон. Если у вас перед носом лошадь сдохнет, вы тоже будете сигналить не снижая скорости, пока не в едете в труп?
У меня теперь есть видео фиксатор. Если вы и дальше так будете себя вести, то я вас буду сюда отправлять вместе с номерами. Ничего заблюривать не буду, и не умею. Задолбали. Я стесняюсь сигналить, тем более в населённом пункте, а вы орете и в дело, и не в дело. Истерички.
Ссыте штоле? Нехрен тогда зимой по трассе ездить. Сидите дома. Это мне по идее надо бояться, но я ничего так, норм. Ой спасибо деду, я ебу и еду.
И меня напугали, и сами напугались поди больше чем я. Моя машина железная вообще-то, мне похер. У меня есть мой мастер Бубука. В гаражах. Который чинит молотком. Он живой, это он по фильму помер, а так-то мы все тут ещё живые пока. И страховка есть. Я починюсь в гаражах за копейки, а вы хз.
Современные СМИ
Никому не кажется, что подача новостей с убийствами всё чаще преподносится как шоу?
Это работники сми так очерствели и готовы на всё ради рейтингов?
Или действительно уже есть большая масса людей, которых устраивает такая подача? Или даже нравится?
Каково родственникам и знакомым убитого, видеть это всё в таком свете?
Т. е. в случае вашей гибели, вы тоже не против такого оформления?
Что с людьми происходит…
Пять принципов Аджубея (2004)
Здравствуйте, дорогие друзья.
Продолжая публикацию архива нашего двоюродного дедушки, журналиста Эдвина Поляновского, я хочу представить вашему вниманию его очерк, посвященный легендарной фигуре в истории советской журналистики — Алексею Ивановичу Аджубею, главному редактору «Известий».
Этот текст был написан к 80-летию Аджубея, 9 января 2004 года. Когда я впервые прочитал его, то, пытаясь понять, как сегодня помнят этого человека, столкнулся с любопытным парадоксом. В памяти многих он остался прежде всего как «зять Хрущева», а его личность зачастую сводится к хлестким фразам вроде «не имей сто рублей…».
Но если отойти от этих клише и спросить: а кем же Алексей Иванович был как главный редактор, как профессионал, изменивший лицо целой эпохи? — ответ открывает нечто гораздо более значительное. Именно при нем газета «Известия» стала голосом «оттепели», живым, человечным и смелым изданием, к которому потянулись миллионы читателей.
Мой дедушка пришел в «Известия» уже после отставки Аджубея, в 1964-65 годах. Но, как он вспоминает в своем очерке, дух, заложенный Аджубеем, — дух сострадания к «маленькому человеку», внимания к его бедам — продолжал жить в стенах редакции. Для дедушки, всю жизнь писавшего о войной опаленных и забытых властью людях, Аджубей был и оставался символической фигурой, открывшей газете дорогу к человеческим сердцам.
Сегодня исполнилось бы 80 лет Алексею Аджубею. Незадолго до этой даты вышла в свет книга «Алексей Аджубей в коридорах четвертой власти»*. Книга о 60-х годах, о политике и журналистике, о профессиональном взлете Аджубея и его человеческой трагедии. Главного редактора «Известий», безмерно преданного газете и жестко преданного своими верноподданными, вспоминают те, кто его хорошо знал.
«Журналист должен ежедневно прочитывать не менее 500 страниц»
Мне не довелось работать при Аджубее, я пришел в «Известия» сразу после его отставки. Люди те же, атмосфера та же. Сожалею ли, что не застал? Пожалуй, нет. Студентом я слушал выступление Алексея Ивановича. Картинно величавый (не величественный, нет), он не говорил, а изрекал: «Журналист должен ежедневно прочитывать не менее 500 страниц литературы. Иначе это не журналист». А писать когда? — хотелось спросить.
Полет фантазии, гипербола? Недоверие осталось.
Азарт, артистизм и талант — были: Аджубей учился в Школе-студии МХАТ, с Олегом Ефремовым бегал сниматься в массовках (фильмы «Близнецы», «Беспокойное хозяйство» — здесь его имя оказалось даже в титрах). С Ефремовым же дали клятву верности театру. Но журналистика перевесила. Незадолго до смерти товарищ Сталин лично подписал указ о создании факультета журналистики, первым выпускником которого стал Аджубей.
Вспоминают его в книге по-разному — слишком противоречивая, нестандартная личность. От каждого Аджубей был по-своему далек и каждому по-своему близок.
Я всю жизнь писал о войне и людях, войной опаленных, — инвалидах, вдовах, сиротах, которых власть забыла (и забила), вообще о людях маленьких и бесправных, брошенных государством. Но ведь это именно Аджубей «очеловечил» газетные страницы. В редакцию хлынули потоки писем, ущемленные властью люди ночевали в известинских коридорах и холлах — они приезжали в надежде на помощь… Вот чем близок Аджубей мне лично.
«Все это — в разбор…»
Не хочется затрагивать тертую-перетертую тему женитьбы Аджубея на дочери Хрущева, как будто человек незаслуженно, из-под полы, получил пропуск во власть, хотя в книге сказано об этом немало.
Станислав Кондрашов категоричен: «Не личность и талант, а родство сделали «Известия» при Аджубее фактически главной газетой страны». Есть мнение другое: талант в совокупности с высоким родством. Юрий Феофанов вспоминает первую планерку:
«Главный, даже не взглянув на разложенные перед ним сверстанные полосы, сказал:
— Все это в разбор…
То есть пустить в переплавку материал, в коем был воплощен труд коллектива известинцев! Это что же было: театральный жест? Заявка на абсолютную власть? Ведь — не читая, даже не глядя…»
Первый же номер был сверстан из критических материалов, долго пролежавших в отделах. Через две недели запасы иссякли. Да и нельзя делать газету только «на запале» и привилегии родства. Здесь начиналась профессия.
Была определена главная задача: пробудить читательские чувства. «Если хотим, чтобы у нас было больше читателей, газета должна быть им ближе и интереснее. Вот и вся задача». Аджубей искал выходы напрямую к читателю. Не к уму его — к душе, она отзывчивее.
В день, бывало, приносили по два мешка писем — жалобы, просьбы, ходатайства. Для их публикации было придумано около 90 рубрик. За умение «прочувствовать» письмо сотрудники поощрялись. Самые интересные письма Аджубей зачитывал на планерке: «Кто полетит? Материал в завтрашний номер!» — и звонил министру гражданской авиации: срочно нужен билет.
Александр Волков, бывший собкор «Известий» по Алтаю, вывел «Принципы Аджубея»:
Газета — это собеседник, который должен не навязывать читателю свою точку зрения, а побуждать человека к собственным размышлениям.
В каждом номере должна быть «бомба», «гвоздь».
Журналист должен писать о том, что самому интересно (а значит, и читателю).
Надо слушать, о чем говорят и спорят люди, и немедленно откликаться.
Адрес материала, как и адрес самого издания, должен быть точным.
Адрес «Известий» главный редактор вычислил — интеллигенция.
Одно дело иметь представление о жизни людей по письмам, заочно, совсем другое — знать ее изнутри. Аджубей был далек от народа. Такова природа власти. В любых командировках его встречал и провожал живой коридор чиновников. Вот источники его «живой» информации: «Моя домработница, объявлял он на планерке, вчера смотрела по телевизору оперу и была поражена игрой и голосом певицы. Почему у нас до сих пор ни строки про эту певицу?» (Из воспоминаний Ольги Кучкиной времен аджубеевской «Комсомолки».) Алексей Иванович делился с коллегами: «Едем мы с Никитой Сергеевичем. Видим, очередь большая. Никита Сергеевич останавливает машину: узнай, в чем дело? Узнаю. Очередь за мясом. А почему, товарищи? Потому, что очень дешево стоит у нас мясо» (Владимир Шмыгановский). Через несколько дней цена на мясо была повышена.
Близость к власти, как ни парадоксально, делала порой Аджубея зависимее других главных редакторов. Станислав Кондрашов считает, что Аджубей вообще творил новый культ Хрущева. Другой международник — Леонид Камынин более снисходителен: «Именно с его (Аджубея. — Э.П.) легкой руки, как поговаривали, появилось новое определение журналистов — «подручные партии». Политический конформизм был в его положении неизбежен».
По убеждению Леонида Шинкарева, «газета оставалась советским подцензурным официозом, не собираясь жертвовать собой, публиковала много такого, о чем приходилось сожалеть». Заступаясь за Эммануила Казакевича или Дмитрия Шостаковича, «Известия» разбойно нападали на Илью Эренбурга и Виктора Некрасова. Но Некрасова громили не сотрудники отдела литературы и искусства, а трое известинских международников (статья «Турист с тросточкой») — любимчик главного и двое офицеров КГБ (их достаточно было среди сотрудников международного отдела). Все трое трусливо спрятались под псевдонимами. Много раз — мстительно, с наслаждением — они издевались над гибелью и последним приютом поэта Александра Галича, подзахороненного под Парижем в чужую могилу.
Есть несправедливость: эти люди прикрываются моей профессией, если хотите — моими героями. Эти люди делают вид, что они — это я.
«Аджубей сказал, чтобы книга о полете Гагарина вышла завтра»
Два стержня, без которых газета не газета: оперативность и глубина.
«Он был азартным редактором. Обогнать других, выйти первым с новостью, в номер, немедленно…» (Анатолий Друзенко).
Эту историю рассказывал мне известинец, увы, уже покойный. Встречали очередного космонавта. Корреспондент «Правды» опередил нас — вместе с космонавтом он уже направлялся в Москву. Аджубей был вне себя от ярости: «Перехватить!» И домой к космонавту помчался корреспондент (кажется, это был Константин Тараданкин), усадил в редакционную машину его жену и дочь и выехал навстречу процессии. Где-то на Ленинском проспекте машины поравнялись, и дочь замахала отцу рукой. Тот выскочил и пересел в известинскую машину. Мы — первые.
Даже если это легенда, она очень похожа на правду.
Когда нужно было организовать беседу с Чарли Чаплином (а тот упрямо отказывался), нашли «слабину»: презентовали четырехкилограммовую банку любимой им черной икры. Чаплин сдался.
Азарт был бешеный. Сразу после полета первого космонавта «Аджубей собрал нас и сказал, чтобы была сделана книга о полете Гагарина и чтобы вышла она… завтра. И это при той устарелой технике, при горячем наборе» (Дмитрий Мамлеев). И первая книга о первом космонавте назавтра вышла, тираж — 300 тысяч экземпляров.
Первенству «Известий» способствовало и то, что цензоры (космический, атомный, военный, прочие) визировали материалы «Известий» раньше, чем тассовские или правдинские. Это вызывало ревность и затаенную ненависть к Аджубею и газете.
Аджубей был склонен к сенсации, но не ко всякой. После схода ледника «Медвежий» в Средней Азии Володя Кривошеев, исполнявший обязанности редактора отдела информации, броско и оперативно «подал» это событие — схема движения ледника, интервью с гляциологом, репортаж с места. Читаешь — волосы дыбом. На утренней планерке Аджубей потребовал снять материал: нельзя нагонять страх на людей, пугать их, читателя надо щадить. «Совсем недавно, если не ошибаюсь, в Японии принят закон, запрещающий сенсационную, пугающую подачу сообщений о природных катаклизмах. Выходит, Алексей Иванович «разработал» подобный закон еще четыре десятка лет тому назад» (Владимир Кривошеев).
«Известия» и «Правда» — казенные близнецы. Чтобы выиграть время, Аджубей решил выпускать газету вечером. Опережали «Правду» на полсуток, кроме того, «Известия» становились ближе читателю: человек не пролистывал их на бегу, а спокойно читал дома после работы.
Важное нововведение — приложение к «Известиям». «Неделя» нашла свой тон — не поучать, а беседовать, не наставлять, а советовать. Очередь за «Неделей» выстраивалась у известинского киоска на квартал. Аджубей был автором идеи воссоздания еженедельника «За рубежом», книги «День мира», тогда впервые запустили электрогазету — бегущую строку на крыше редакции: «Читайте в газете Известия»… Все это не было новациями в прямом смысле. «За рубежом» и «День мира» издавались еще при Горьком и Кольцове, приложение, вечерний выпуск, рекламу и т.д. он увидел на Западе. Но запустить каждый такой проект требовало тогда усилий невероятных.
Дайджест «Радуга» (ежемесячный журнал-спутник «Известий») запретил главный идеолог Суслов, тираж пошел под нож. Запретили 15-минутный радиовыпуск «Известий». Не разрешили новостную газету, которую предполагали выпускать совместно с ТАСС несколько раз в день.
* * *
Легко поднимаясь по служебной лестнице, он вначале, по молодости, вроде бы испытывал неловкость:
— Я и сам по себе что-нибудь значу. Разве я пишу хуже, чем…
А как он писал?
Наталья Колесникова: «Он писал легко, может быть, слишком легко. Он вызывал стенографистку и надиктовывал материал. Ни особой глубины, ни отточенности стиля…»
Илья Шатуновский: «Писал неплохие очерки». Отзывы сдержанные. Тем ценнее отсутствие ревности к тем, кто писал лучше. Аджубей искал и умел находить сильных журналистов. И старался угадать в человеке — человека.
«Ты что, хочешь меня с тестем поссорить?»
«Природа не скряга и не враг человеку. Да не он ли ее любимец и избранник? Не она ли его, homo sapiens, вывела в люди? Может быть, она сурова, но это чтобы он был мужественным. Она необъятна, чтобы он не был ограниченным. Возможно, она в чем-то несовершенна, чтобы не угасал в нем гений творчества и преобразования. Природа даже дала человеку власть над собой, чтобы он не был ничьим рабом». Не правда ли, похоже на тургеневское стихотворение в прозе? Или изречение древнего мудреца. Но этой «старине» — все те же 40 лет. Автор — молодой тогда Саша Васинский. Название статьи: «Любите ли вы деревья?» Какая газета опубликует сегодня подобный текст с патриархальным заголовком?
Саша съездил в командировку в маленький районный городок — двух- и трехэтажные каменные дома соседствуют с избами, по обочинам булыжных мостовых — крапива и лопухи. Он долго мучился, как соединить все это в одной, первой же строке. И написал: «В этом городке у памятника Ленину вас может ужалить шмель». Раз у памятника, значит, в центре городка, а если шмель, то вот она, рядом — река, за которой луга и лес. Чеховская фраза.
Отнюдь не все публикации были подобного уровня. Даже сегодня, когда отброшены и, казалось бы, забыты советские штампы, в книге об Аджубее читаю воспоминания журналиста-международника: «Газета была застрельщицей многих славных дел советских юношей и девушек. Ее международные страницы разоблачали агрессивные замыслы западных политиков, рассказывали правду о горькой жизни безработных, изгоев буржуазного общества».
Отнюдь не хочу задним числом вбить клин между международниками и прочими. Были исполнители любых заказов и на внутренние темы. Были и международники невыездные. Эти примеры я привел для того, чтобы разбить многоголосые воспоминания о дружном известинском единомыслии той поры. Едины были в верности газете, в полной самоотдаче. А мыслили по-разному.
Какие, скажите, единомышленники, когда главный редактор и первое перо — Анатолий Аграновский в итоге разошлись? Мы были близки с Толей, он рассказывал, как сдал антилысенковскую статью и Аджубей сказал: «Ты что, хочешь меня с тестем поссорить?» Отдал в «Литературку»… Что делать журналисту, если редактор знает все наперед и не убеждает, а декларирует, не доказывает, а утверждает?
Аграновский ушел.
Сохранилась учетная карточка. Заявление Аграновского: «Прошу предоставить мне творческий отпуск без сохранения содержания с 1 января 1964 г. сроком на год». Аграновский ушел так тихо, что об этом авторы воспоминаний и не знают. Вернулся после отставки Аджубея.
А о Саше Васинском я написал еще и потому, что его фамилия в этой книге — в траурной рамке. Последние слова его воспоминаний: «Я думаю, что если когда-нибудь аджубеевский «известинский дух» отлетит от «Известий», газете придется заказывать катафалк».
«Как ему нелегко работать, ведь его окружение — серость и посредственность»
Аджубей бывал категоричен, вспыльчив, мог сорваться — но без оргвыводов. И журналисты оставались под его могучим прикрытием.
Миланский «Ла Скала» приехал на первые гастроли в СССР. Дирижер — фон Караян. Андрей Золотов написал рецензию. Из Кремля позвонил Аджубею секретарь ЦК Ильичев. Он кричал на Алексея Ивановича в присутствии помощников Хрущева: «Караян — коллаборационист! Как можно его хвалить?» Андрея предупредили: «Твоя карьера закончена. В три часа — редколлегия, будем тебя увольнять». «Никакой редколлегии не было, меня не выгнали, и я даже получил гонорар. Но кричал он на меня, кричал в тот день…» (Андрей Золотов)
Как-то на пленуме к Аджубею подошел первый секретарь Иркутского обкома партии, член ЦК и в резкой манере высказал недовольство публикацией собкора Леонида Шинкарева: «Обком не станет возражать, если редакция переведет журналиста в другую область!» Алексей Иванович побагровел: «Мы доверяем нашему корреспонденту! А ваше отношение к критике, товарищ Щетинин, настораживает. Советую подумать над этим!» И добавил фразу, которую секретарь обкома мстительно цитировал потом, после снятия Аджубея: «Собкоры «Известий» — те же партийные работники, но еще умеющие писать».
Аджубея боялись, ему льстили — и в редакции, и за ее пределами. Когда он спускался в наборный цех, замы гуськом пристраивались за ним. В ту пору рядовой сотрудник звонил по телефону: «Вас беспокоят из «Известий», — и на другом конце провода поднимали руки вверх.
Но исчерпал себя Никита Сергеевич. Кукуруза, травополка, разделение обкомов, неразумное сокращение армии. Страна осталась без хлеба. Власть слабела. Слабел и Аджубей. В книге никто не вспоминает об этом, но вот они, факты.
Секретарь другого обкома требует убрать собкора, и Алексей Иванович послушно переводит его в соседнюю область. Фельетонист Семен Руденко по заданию главного редактора отправляется по местам недавних выступлений, откуда «Известиям» было отвечено: «Меры приняты». Побывал в пяти городах. Выяснилось: все по-старому. Оказалось, виновного, который был «снят с работы», устроили на теплое место, других, наоборот, на работе восстановили, как и требовала газета, но условия создали такие, что люди сами ушли…
Последний год работы — невидимая миру драма. «Аджубея временами заносило. В узком кругу, чаще всего за рюмкой, он стал резок и неосторожен в оценках. Сам слышал, как он пренебрежительно отзывался о соратниках Никиты Сергеевича: «Как ему нелегко работать, ведь его окружение — серость и посредственность» (Илья Шатуновский). Это доходило до Брежнева, Суслова, Шелепина.
Чувствуя, как земля уходит из-под ног, Аджубей тем не менее стремился к государственной карьере, так же вслух говорил о том, что перерос «Известия». Его частое: «Я — член ЦК!» означало, что он «считает себя частью партийной номенклатуры, а не журналистского сообщества. Между тем, номенклатура-то вовсе не считала его своим» (Владимир Скосырев).
Роковое 14 октября 1964 года. Раннее утро. Пленум еще не состоялся, но наверху все всё знают. Во «Внуково» встречают президента Кубы Освальдо Дортикоса. Здание аэропорта еще украшает (последние минуты) огромный портрет Хрущева. Многочисленные маленькие Хрущевы в руках представителей общественности. Согласно протоколу приезжает Аджубей, выходит к самолету, и стоящие вдоль красной ковровой дорожки партийно-государственные бонзы, как по команде, поворачиваются к нему спиной.
Только Анастас Иванович Микоян подошел и поздоровался за руку.
Пленум ЦК одним решением снял с работы Хрущева и Аджубея.
В этот день рядовые сотрудники «Известий» постеснялись зайти к нему. А заместители главного, прежде не отходившие от него ни на шаг, и члены редколлегии — все как один попрятались по закуткам. Из «Недели» пришел художник Юра Дектярев, он, единственный, проводил Аджубея из редакции. На выходе Алексей Иванович остановился возле вахтера и набрал телефон Андрея Золотова:
— Андрей, я на вас тогда наорал, простите меня.
* * *
На другой день он приехал в редакцию, прошел по рядовым кабинетам, попрощался с сотрудниками.
— Простите, если что было не так. Я? Я — журналист, не пропаду.
* * *
Как мог так жестоко ошибиться в своем ближайшем окружении? Трудно доверчивому властителю (а он был доверчив) разглядеть подчиненных: умное лакейство не отличишь от преданности, а хитрую ложь — от правды.
Это тоже в природе власти.
Всего несколько месяцев назад, когда Аджубею исполнилось сорок, очередь желающих поздравить его тянулась почти как в Мавзолей Ленина — от самого Моссовета. Теперь на той же улице Горького Алексей Иванович с улыбкой протянул руку закадычному знакомцу — и тот стремительно перебежал на другую сторону.
Он не стал погорельцем
Советская власть умела мстить.
Когда-то снимали с работы замечательного редактора «Комсомольской правды» Юрия Воронова. Он ребенком перенес блокаду и не мог, до боли сердечной, слышать немецкую речь. Его отправили на много лет собкором… в Германию.
Аджубея хотели выселить из Москвы. Предложили должность зам. главного редактора в областной газете. Он отправил письмо в ЦК, написал о том, что мать тяжело больна, он не может бросить ее.
Ему предложили работу в рекламном журнале «Советский Союз», которым руководил ортодокс Николай Грибачев. «Звучало почти насмешливо: зав. отделом очерка и публицистики в журнале, где фактически не было ни того, ни другого» (Станислав Сергеев). Публиковаться под собственным именем запретили, взял псевдоним — Родионов. Кабинетик на двоих, рядом с вахтером (бывшая кладовая для фотоаппаратуры). Зарешеченное окно упиралось в стену соседнего дома. И спаренный телефон: звонили Аджубею — отвечал вахтер.
Уже Алексей Иванович, случалось, страдал от хамства главного.
Люди по старой памяти обращались к нему за помощью, и он, когда мог, помогал, пользуясь старыми связями.
Алексей Иванович и Рада Никитична поехали отдыхать в Сочи. Впервые поселились в гостинице. Вечером поселились, а утром директор позвонил в сочинский горком, и гостей выставили на улицу (хотя Аджубей еще оставался депутатом Верховного Совета СССР).
У него сгорела дача. Чтобы построить новую, на Икше, стал распродавать домашние вещи, одежду, фамильные драгоценности. Дачу построил и очень ее любил. Но и она сгорела, тоже дотла… Соседом по дачному поселку был Володя Кривошеев. Рассказывает, как Алексей Иванович смотрел на пылающий дом и ни один мускул не дрогнул на его лице.
Он не стал погорельцем.
* * *
Все 20 лет, которые провел Аджубей в изгнании в центре Москвы, практически в любой командировке, в самых глухих углах страны люди спрашивали: «А где сейчас Аджубей?»
* * *
Так случилось, на рубеже 80-х меня больше двух лет не печатали в «Известиях». Когда наконец опубликовали, из журнала «Советский Союз» позвонил Толя Данилевич: «С тобой очень хочет поговорить Алексей Иванович».
— Поздравляю! Ваша фамилия снова появилась. — И через паузу: — Как вы думаете, может, и до меня скоро очередь дойдет?»
Прозвучало как-то по-детски наивно и от этого больно и горько.
Прошел 21 год. В сентябре 1985 года он наконец напечатался под собственной фамилией — в «Советской России», которой руководил Михаил Ненашев.
Газета «Третье сословие», которую в конце жизни возглавил Аджубей, прожила недолго. Третье сословие — «владельцы собственного таланта» — еще не созрело. Он опять опередил время. К тому же СМИ становились бизнесом, и газета оказалась к этому не готова.
* * *
Нужно ли сегодня вспоминать эту давнюю историю, ведь пресса стала другой? Именно поэтому и нужно — чтобы снова «очеловечить» печатные страницы. Аджубей поднял тираж газеты в 20 раз за счет именно нравственной тематики, за счет уровня, класса, если хотите, искусства. Нынче же журналистика, обращаясь к самым низменным чувствам, перестает быть не только искусством, но и профессией.
Впрочем, что это за коммерциализация памяти: нужен — не нужен. Аджубей был выдающейся личностью, с его именем связаны важные моменты жизни страны.
Вот историческая частность:
«Может быть, он был один из тех немногих, но замечательных людей в моей жизни, кто что-то во мне увидел или как-то меня придумал, а потом оставалось соответствовать этому видению, не разочаровывать этих людей…»
(Андрей Золотов).
Для всех, почти для всех авторов этой книги «Известия» остались как маленькая родина. Теперь, когда все меньше остается завтрашних дней, особенно близко ощущаешь тех редких людей, которые тебя угадали или придумали.
2004 г.
* Алексей Аджубей в коридорах четвертой власти. — 2003 г., Москва, издательство «Известия».
Йота, не надо врать
Я уже сказал и оператор подтвердил. расходуется пакет минут, потом платите во все щели. в пакет минут входят экстренные звонки, ожидание и пиздец. платит почти 4 р минута. охуенно вы устроились. я инсультник. глаза искуственные хрустали
мне бывает нужен скоряк, я на улице выпадал в осадок. упало давление и пиздец мне
тебя выключит, сначала звезды перед глазами, потом ничего не видишь, а потом выключило. очень похоже на смерть. я ничего не помню.
могут подобрать и помочь, только я это не знаю. не помню. вывез скоряк. мне резко стало хуево и вышибло память. я был трезв. пытался позвонить поздно. отключился
и когда вы пидарасы выписываете мне счета за экстренку, я хочу уебать вас с вертушки сломаной ногой с имплантом и болтами, чтоб вы не встали и мучались, и страдали, уёбки
Вера в ЛЮДЕЙ не потеряна
Сегодня одна мадама(спойлер - я)))была слишком хорошего мнения о своём зрении и решила отправить деньги не надев очки...
Сумма не маленькая. Деньги племяннице. Маргаритте.
Откуда в моей записной книжке номер телефона человека с таким же именем - так и осталось загадкой( возможно когда то мы что то покупали друг у друга)
Панику я словила не маленькую.
Но, Маргаритта Дмитриевна П из города Волгограда, вы прекрасный ЧЕЛОВЕК!
Племянница первую химиотерапию проходит( Любые деньги сейчас не лишние.
А я продолжаю верить что хороших людей гораздо больше чем плохих.
Двое вышли из леса
Здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаю публикацию работ нашего двоюродного дедушки, журналиста Эдвина Поляновского.
Предыдущий пост с заметкой "Персональный вентилятор" про конфликт в самолете из-за вентилятора из "Известий" 1970 года доступен по ссылке.
Напоминаю, цель публикации работ - познакомить с обществом тех лет. Первоначально в очерках, которыми я хотел поделиться, были темы, которыми я хотел донести идеи, не "как-то очернить СССР" или еще что-то подобное, а понять, что проблемы в обществе были всегда. Вопрос как на них реагировали и как их решали.
Сегодня у нас очерк "Двое вышли из леса" вышедший 1 февраля 1972 года, в "Известиях" №072.
В лесу остро чувствуешь мудрую вечность природы. И в этой вечности постигаешь какой-то великий секрет и смысл жизни. И до тебя все это было — ели, березы, эти вот сосны, и после тебя, через века будет здесь та же первозданность. В лесу с немым недоумением заново открываешь давно открытое. Появляются вдруг новые крепкие связи с жизнью.
И еще в лесу чувствуешь духовное очищение, обновление. Чувствование здесь замешено на всех запахах земли, оно сильно и властно. Как это у Паустовского: леса — «величественны, как кафедральные соборы».
Впрочем, для людей, с которыми вышагиваю я по снежной лесной целине, природа — не храм, а мастерская, и они в ней — работники. Анатолий Иванович Казин — председатель районного общества охотников и рыболовов, Иван Иванович Бондарев — егерь. В районе есть и другие егеря, и охотников тут сотни, но я выбрал именно этих людей, именно их.
От Рузы до Теряева добрались мы на автобусе, перешли шоссе и вышли сюда, на воспроизводственный участок. Охота тут строжайше запрещена, зверью — вольная воля. «Только собак наганиваем, тренируем, значит,— объясняет Казин,— чтоб без дела не засиделись».
Сначала шли полем, по лыжне. Шли цепочкой — Казин, я, Бондарев. Когда лыжня пропадала, уходила в сторону, шли по снежной целине, ступая валенками след в след, чтобы не расходовать силы зря. Казин вроде бы мимоходом, но цепко схватывает все вокруг.
— Вот заяц прошел. Следы видите? Беляк. Шел во-он оттуда, из оврага, к лесу. К кормушке.
Через несколько шагов Казин снова останавливается.
— А вот лисица мышь задрала. Видите?
Ничего не вижу. Казин наклоняется и поднимает маленькие, чуть видно, волоски шерсти.
— Полевая мышь вот отсюда бежала, видите — точечки на снегу, это ее следы, а сбоку еще следы, это — лиса. И вот,— Казин бросает на снег шерстинки,— все, что осталось от мыши.
Для Казина это пустое поле и этот притихший впереди лес заполнены жизнью. Он слышит все звуки и шорохи, по следам видит, кто, откуда, куда и зачем шел. И даже когда шел. Мне все это очень интересно, существует и открывается неведомая доселе вторая жизнь, и Казин — богатый должен быть человек, раз он эту вторую жизнь постиг.
Но Татаринов-то, Татаринов… Что ж они оба о нем ни слова? Я же не зря именно с ними в лес пошел. Что ж молчат о нем?
Кончилось поле, вступили в лес.
— Знаешь, Иван Иванович,— говорит Казин.— Данилин просил выделить тридцать человек на расчистку просек. Слышь?
— А где мы их возьмем,— отвечает сзади Бондарев,— пусть объявление через газету дают.
Спрошу, спрошу сам, где они его, Татаринова… А что «они его»? Оставили, бросили? Вроде не бросали.
На развилке остановились, Казин сказал вдруг:
— Здесь мы разошлись…
«Разошлись». Вроде как на равных. Но ведь Татаринов отстал.
— Да-а, он позади был. И вот сюда, влево пошел… В общем, мы-то сейчас как пойдем? По нашему маршруту или по его?
Мне интересно знать, где они его потом нашли.
— По его, по его пути.
Петляем долго и немыслимо. Видно, Татаринов действительно плохо знал лес, да и пурга была тогда ужасная. Снова оказались на каком-то поле.
— Вот тут,— показывает Бондарев,— мы его разыскали.
Остановились — старый ивняк и четыре березы на опушке леса.
— Тут,— подтверждает Казин.— Спасибо собака помогла, так бы не нашли.
— Точно-точно,— оживляется Бондарев,— идем, значит, с поисковой партией, смотрим — какая-то собака по опушке бегает и лает, зовет. Ну, один там из наших, с фабрики, он впереди всех был, подбегает, видит — Татаринов. Лежит. «Ну, Федор Григорьевич,— кричит,— ты тут разлегся, а мы с ног сбились!»
Тут, на опушке, я еще раз вспоминаю и оцениваю то, что случилось.
15 октября, в пятницу, заседало правление общества охотников. «На воспроизводственном участке браконьеров много,— доложил один из членов правления,— я слышал там недавно выстрелы. Стал считать — семнадцать выстрелов». «Завтра же пойдем посмотрим,— сказал Казин Татаринову,— возьмем Бондарева».
Наутро, в начале седьмого, несмотря на отчаянную пургу, все трое, как и договорились, отправились в лес. Как говорит Казин, он за всю свою жизнь такой метели здесь не видел. Сквозь отчаянные завывания ветра где-то рядом, в темноте, словно хлопали ружейные выстрелы — это ломались и падали под ветром провисшие от тяжелого снега деревья. Проваливались по колено в снег, под которым лежала незамерзшая грязь.
Прошли низину. У развилки Татаринов отстал.
— Где ты? — окликнул его Бондарев.
— Тут я,— донесся откуда-то из-за ветра голос Татаринова.
Двинулись дальше. Когда через некоторое время снова окликнули Татаринова, ответа не было. Позвали еще раз — только ветер воет. Двинулись дальше. Заговорили о лицензиях. О том, что, дескать, дали вот им три лицензии на отстрел кабанов, а как делить их — недовольные будут, как всегда…
Оба — и Казин, и Бондарев — утверждают, что искали Татаринова. Прошли, как говорят, дорогу на Звенигород, высоковольтную линию, покрутились. Вышли на Валыгинское поле — нет никого. Зашли в будку комбината декоративного садоводства. Обсушились.
— А ведь Татаринов-то нездоров, Анатолий Иванович,— сказал Бондарев.— Жаловался мне, что давление опять поднялось…
— Да-а,— неопределенно ответил Казин.— Да нет, зайца, наверно, решил подстрелить. Придет.
Обсушились. Погрелись. Перекусили.
Когда возвращались домой, спросил уже Казин:
— Поищем, вернемся?
— Да он уж, поди, дома чай пьет.
Так они шли, поочередно выказывая ленивое беспокойство и тут же уговаривая себя не волноваться.
А метель свирепствовала. Казин — молодой и крепкий — обычно за день проходил и 40, и 50 километров, хоть бы что, а тут… Хотели даже, признаются сейчас, ружья побросать.
Домой вернулись к обеду. Бондарев живет рядом с Татариновым. Соседи. Вернувшись, он не зашел к Татариновым. Почувствовал вдруг тревогу? Побоялся ли, ждал ли чего-то? (Как будто можно было отсидеться до лучшей поры.) К шести вечера прибежала взволнованная жена Татаринова: где Федор? Бондарев испугался: «А что, не пришел? Да он с Казиным вроде был…» — залепетал невразумительное.
Потом Бондарев сообщил о беде в милицию. Позвонил Казину.
Утром 17 октября, это было воскресенье, к Бондареву постучалась дочь Татаринова — Анна.
— Иван Иванович, дорогой, пойдемте в лес, покажите, где шли…
— Не могу, радикулит у меня… — и Бондарев закрыл дверь.
На поиски пошел было муж Анны, но вернулся ни с чем.
Собрался народ у дома Татариновых, хотели идти всем миром в лес. Но куда? Ни Бондарева, ни Казина нигде не нашли. (Как оба говорят теперь, в это время они вдвоем тоже искали Татаринова… в подсобном хозяйстве Дорохово, где Татаринов работал.)
Сейчас, когда уже давно все позади, я думаю, как с каждым промедленным часом, даже минутой, росла тяжесть вины этих двоих.
На третий день Татаринова действительно нашли. 18-го с утра была снаряжена поисковая группа, и где-то около часу дня нашли его у Валыгинского поля, рядом с садоводческой будкой, где отдыхали, грелись Казин с Бондаревым.
— Ну, Федор Григорьевич, ты тут разлегся, а мы с ног сбились…
Сказал тот, что был впереди, и осекся.
Светило зимнее неяркое солнце. Ослабевший за эти дни ветер ронял с берез снежную пыль. Снег падал на лицо Татаринова и не таял. Рядом с ним, виновато виляя хвостом, видно, давно уже не отходила от него незнакомая собака, застывшая в нелепой преданности.
От Валыгинского поля мы возвращаемся к дому. Казин и Бондарев по-прежнему чутко слышат все звуки и шорохи леса.
— Вот лось шел. Недавно,— показывает Бондарев на следы.— Шел слева во-он к тому ивняку подзаправиться.
— А зайцев-то больше стало. Как сено идет, Иван Иванович?
— Хорошо, зайцы его любят.
Я знаю, о чем они говорят. Охотники косят и вывозят с лесхозовских угодий сено — для косуль, зайцев. Еще они растят картофель, овес для кабанов, собирают рябину для рябчиков, тетеревов, зайцев. Для лосей и зайцев на зиму готовят солонцы: валят осину, в метре-полутора от корня рубят корыто и закладывают туда соль-лизунец. Через недельку-другую осина начинает киснуть, и тут-то подходят на подкормку лоси.
Обо всем этом рассказывал мне вчера вечером Казин. Он гордится своим хозяйством, в области оно на хорошем счету. «План по членству,— говорил Казин,— идет хорошо, 932 охотника у нас, план по вырубке ивняка сделан. Лекции? Пожалуйста. Надо было за год шесть провести, а мы — семь. Тех же солонцов вместо 223 сделали 280».
— Ах, сволочи,— Казин неожиданно останавливается.— Ну надо же, а? Иван Иванович?
Я вижу на осине большенные вырезы ножом. Кто? Хулиганы какие-то.
— Вот сволочи,— повторяет Казин,— судить за это надо.
— Послушайте,— спрашиваю я,— а из вас кто-нибудь был у Татариновых в семье после этого…
— А зачем? — ответили оба в один голос.
— Мы венок ему купили? Купили,— объяснил Бондарев.
— И ленту,— подсказал Казин.— Я вообще жалею вот о чем: зря я его, наверное, к себе в хозяйство взял. И старый он, и лес знал плохо.
Казин впереди осторожно трогает ногой снежную корку. Проверяет что-то.
— Это я смотрю, твердый ли наст,— объясняет он.— Тетерева, они же с деревьев прямо в снег сигают. Не побились бы.
Проходим мимо обелиска с красной звездой.
— Кому это? — спрашиваю.
Молчат. Переглянулись.
Я подошел к обелиску. «Лейтенант Суханов погиб в бою за Родину».
— Он вроде Рузу освобождал,— словно оправдываясь, говорит Казин.
— Но под Рузой погибли тысячи, а памятник-то поставили Суханову?
— А кто его знает…
Сколько же раз они тут проходили!
— Может, раз пятьдесят, может, сто… — отвечает Казин.
Через несколько минут они уже снова читали следы.
— Вот это беляк прошел, на поляну бежал. А во-он снегирь сидит. Снегириха, вернее: с фиолетовым брюшком, самец с красным.
…А все-таки лес, и природа, и все, что есть тут на этой земле,— не их богатство. Им вроде как одолжили всем этим попользоваться, пока они тут служат.
Войну Федор Григорьевич Татаринов прошел всю, до последнего дня. И там, где он, артиллерист, мог умереть, жив остался. В мае они с женой, Зинаидой Николаевной, собирались праздновать 40 лет совместной, вполне благополучной и доброй жизни.
Вспоминаю, что Казин и Бондарев не пошли хоронить Татаринова: людей побоялись. Бондарев только форточку приоткрыл, когда процессия шла мимо, и тут же захлопнул. И гулять с внуком на улицу он выходил долгое время только поздними вечерами, когда на улице никого не было.
Должно быть, когда человек остается один, жизнь более чем страшна — она бессмысленна.
Скрипит снег под ногами. Я иду по лесу с этими людьми. Они — впереди меня, о чем-то тихо и оживленно беседуют.
И у Казина, и у Бондарева настроение сейчас неплохое. Три месяца велось уголовное дело, и вот только вчера его закрыли, камень с плеч. В конце концов, Татаринов скончался, как установила экспертиза, «от сердечно-сосудистой недостаточности».
1972 г.